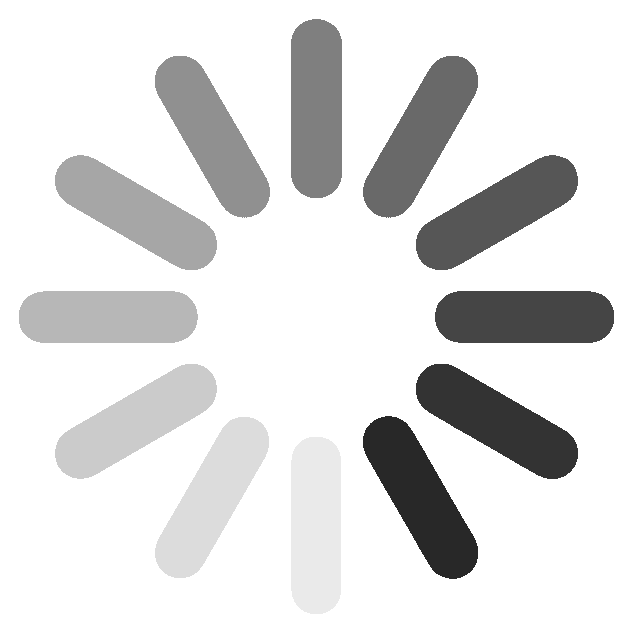 X
X

Елена Михайловна Ширман родилась 21 января 1908 года в Ростове-на-Дону в семье штурмана торгового флота Михаила Вульфовича Ширмана (1879—1942). Её мать Любовь Абрамовна Ширман (урождённая Фрумсон, 1890—1942) работала учительницей, впоследствии окончила Археологический институт и работала библиотекарем в музее, была членом-учредителем и членом правления Северо-Кавказского краевого общества археологии, истории и этнографии в Ростове-на-Дону.
С детства Елена увлекалась сочинением стихов, публиковалась в ростовских изданиях. Позднее её стихи стали публиковаться в московских журналах «Октябрь» и «Смена».
В 1933 году после окончания литературного факультета Ростовского пединститута она начала работать в библиотеке, занималась сбором фольклора и продолжала литературную деятельность. В 1937 году Елена поступила в Литературный институт им. А. М. Горького на семинар Ильи Сельвинского. Одновременно она сотрудничала с рядом ростовских изданий, руководила детской литературной группой, была литературным консультантом газеты «Пионерская правда».
С началом Великой Отечественной войны Елена Ширман возглавила выходившую в Ростове-на Дону агитгазету «Прямой наводкой», в которой публиковались её сатирические стихи.
В июле 1942 года, по заданию газеты она с выездной редакцией была в станице Ремонтной, куда недавно приехали из Ростова и её родители, поселившись в пристройке редакции районной газеты. Ночью немцы заняли станицу. Утром ворвались в редакцию. На глазах Елены расстреляли отца и мать. Её заперли в сарае до утра, обвинив в шпионаже, покопавшись в её документах и дневниках. При аресте сумела спрятать свечу, спички, карандаш и лист бумаги. Всю ночь перед казнью не спала, писала последние строки. Она их так и назвала ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ.
Последние стихи.
Эти стихи, наверное, последние,
Человек имеет право перед смертью высказаться,
Поэтому мне ничего больше не совестно.
Я всю жизнь пыталась быть мужественной,
Я хотела быть достойной твоей доброй улыбки
Или хотя бы твоей доброй памяти.
Но мне это всегда удавалось плохо,
С каждый днём удается всё хуже,
А теперь, наверно, уже никогда не удастся.
Вся наша многолетняя переписка
И нечастные скудные встречи —
Напрасная и болезненная попытка
Перепрыгнуть законы пространства и времени.
Ты это понял прочнее и раньше, чем я.
Потому твои письма, после полтавской встречи,
Стали конкретными и объективными,
как речь докладчика,
Любознательными, как викторина,
Равнодушными, как трамвайная вежливость.
Это совсем не твои письма.
Ты их пишешь, себя насилуя,
Потому они меня больше не радуют,
Они сплющивают меня, как молоток шляпу гвоздя.
И бессонница оглушает меня, как землетрясение.…
Ты требуешь от меня благоразумия,
Социально значимых стихов и веселых писем,
Но я не умею, не получается…
(Вот пишу эти строки и вижу,
Как твои добрые губы искажает недобрая
"антиулыбка",
И сердце моё останавливается заранее.)
Но я только то, что я есть, —
не больше, не меньше:
Одинокая, усталая женщина тридцати лет,
С косматыми волосами, тронутыми сединой,
С тяжёлым взглядом и тяжёлой походкой,
С широкими скулами, обветренной кожей,
С резким голосом и неловкими манерами,
Одетая в жёсткое коричневое платье,
Не умеющая гримироваться и нравиться.
И пусть мои стихи нелепы, как моя одежда,
Бездарны, как моя жизнь,
как всё чересчур прямое и честное,
Но я то, что я есть.
И я говорю, что думаю:
Человек не может жить, не имея завтрашней радости,
Человек не может жить, перестав надеяться,
Перестав мечтать, хотя бы о несбыточном.
Поэтому я нарушаю все запрещения
И говорю то, что мне хочется,
Что меня наполняет болью и радостью,
Что мешает мне спать и умереть.
… Весной у меня в стакане стояли цветы земляники,
Лепестки у них белые
с бледно-лиловыми жилками,
Трогательно выгнутые, как твои веки.
И я их нечаянно назвала твоим именем.
Всё красивое на земле мне хочется называть твоим именем:
Все цветы, все травы,
все тонкие ветки на фоне неба,
Все зори и все облака с розовато-желтой каймою —
Они все на тебя похожи.
Я удивляюсь, как люди не замечают твоей красоты,
Как спокойно выдерживают твое рукопожатье,
Ведь руки твои — конденсаторы счастья,
Они излучают тепло на тысячи метров,
Они могут растопить арктический айсберг,
Но мне отказано даже в сотой калории,
Мне выдаются плоские буквы в бурых конвертах,
Нормированные и обезжиренные, как консервы,
Ничего не излучающие и ничем не пахнущие.
(Я то, что я есть, и я говорю, что мне хочется.)
... Как в объёмном кино,
ты сходишь ко мне с экрана,
Ты идешь по залу, живой и светящийся,
Ты проходишь сквозь меня как сновидение,
И я не слышу твоего дыхания.
... Твоё тело должно быть подобно музыке,
Которую не успел написать Бетховен,
Я хотела бы день и ночь осязать эту музыку,
Захлебнуться ею, как морским прибоем.
(Эти стихи последние,
и мне ничего больше не совестно.)
Я завещаю девушке, которая будет любить тебя:
Пусть целует каждую твою ресницу в отдельности,
Пусть не забудет ямочку за твоим ухом,
Пусть пальцы её будут нежными, как мои мысли.
(Я то, что я есть, и это не то, что нужно.)
... Я могла бы пройти босиком до Болграда,
И снег бы дымился под моими подошвами,
И мне навстречу летели бы ласточки,
Но граница закрыта, как твое сердце,
Как твоя шинель, застегнутая на все пуговицы.
И меня не пропустят.
Спокойно и вежливо
Меня попросят вернуться обратно.
А если буду, как прежде, идти напролом,
Белоголовый часовой
поднимет винтовку,
И я не услышу выстрела —
Меня кто-то как бы негромко окликнет,
И я увижу твою голубую улыбку совсем близко,
И ты — впервые — меня поцелуешь в губы.
Но конца поцелуя я уже не почувствую.
О том, как погибла Елена Ширман, стало известно только через 20 лет.
Кто-то сберёг ежедневник, который находился с журналисткой во время ареста. Стихи из дневника вошли в сборник «Жить!», который вышел в 1969 году. Это была единственная книга поэтессы, выпущенная после ее смерти.
Жить!
Из поэмы "Невозможно".
Разве можно взъерошенной мне истлеть,
Неуемное тело бревном уложить?
Если все мои двадцать корявых лет,
Как живые деревья твердят: - жить!
Если каждая нить на моей башке
К солнцу по-своему тянется,
Если каждая жилка бежит по руке
Неутомимым танцем!
Жить! Изорваться ветрами в клочки,
Жаркими листьями наземь сыпаться!
Только бы слышать артерий толчки,
Гнуться от боли, от ярости дыбиться.
1930 год.
Путь сквозь сосны.
Я думать о тебе люблю.
Когда роса на листьях рдеет,
Закат сквозь сосны холодеет
И невесомый, как идея,
Туман над речкою седеет, -
Я думать о тебе люблю.
Когда пьяней, чем запах винный,
То вдруг отрывистый, то длинный,
И сладострастный, и невинный,
Раздастся посвист соловьиный, -
Я думать о тебе люблю.
Ручей, ропща, во мрак струится.
И мост. И ночь. И голос птицы.
И я иду. И путь мой мнится
Письмом на двадцати страницах.
Я думать о тебе люблю.
1939 год.
Ненайденному адресату.
Писать тебе. Писать всю ночь. И знать,
Что голос мой тебе не нужен,
Что день твой мал и до минут загружен,
И некогда тебе стихи мои читать.
И все-таки писать. И думать - вероятно,
Ты переехал, ты уже не там,
И дом не тот и улица не та,
И мой конверт ко мне придёт обратно,
И буду почерк свой в тоске не узнавать,
И, запинаясь, ставить знаки препинанья,
И буквы обводить, и плакать - от сознанья,
Что не найду тебя.
И все-таки опять,
Весь день, всю ночь - пускай бесцельно это -
Я не могу не ожидать ответа.
Всегда, всю жизнь не в силах променять
Ни на какие сытые забавы,
Голодное, но радостное право -
Мечтать, надеяться и безнадежно ждать.
Истлеет лист. Умрут слова и даты,
Но звезды, замыслы и бытие само
Останутся, как вечное письмо
Тебе - ненайденному адресату.
1939 год.
Проводы.
Я буду слушать, как ты спишь. А утром
Пораньше встану, чаю вскипячу,
Сухие веки второпях напудрю
И к вороту петлицы примечу.
Ты будешь, как всегда: меня шутливо
"Несносной хлопотуньей" обзовешь,
Попросишь спичку. И неторопливо
Газету над стаканом развернешь.
И час придет. Я встану, холодея,
Скажу: "Фуфайку не забудь, смотри".
Ты тщательно поправишь портупею
И выпрямишься. И пойдешь к двери.
И обернёшься, может быть. И разом
Ко мне рванёшься, за руки возьмёшь.
К виску прильнёшь разгорячённым глазом.
И ничего не скажешь. И уйдёшь.
И если выбегу и задержусь в парадном,
Не оборачивайся, милый, уходи.
Ты будешь биться так же беспощадно,
Как бьётся сердце у меня в груди.
Ты будешь биться за Москву, за звёзды,
За нынешних и будущих детей.
Не оборачивайся. Слишком поздно.
И слёз не видно на щеке моей.
1939 год.
Приезд.
Состав, задыхаясь, под арку влетит,
Навстречу рванутся и окна, и гомон,
И холод, и хохот. И кто-то навзрыд
Заплачет. И всё это будет знакомо,
Как в детстве, в горячке.
Ведь так на роду
Написано мне по старинной примете -
И то, что тебя я опять не найду,
И то, что меня ты опять не встретишь.
И лица. И спины. И яркий перрон.
И кто-то толкает меня. Громогласен
Гудок паровозный. И это не сон,
Что нету тебя. И приезд мой напрасен.
Клубясь и вращаясь, прокатит вокзал,
Сверкание залов и темь коридоров.
И площадь пуста. И фонарь, как запал,
Мигнёт, поджигая покинутый город.
И площадь взлетит, как граната, гремя,
И хлынут осколки разорванных улиц.
...Кто-то с панели поднимет меня
И спросит заботливо:
"Вы не споткнулись?"
1940 год.
Детям.
Всё резче графика у глаз,
Всё гуще проседи мазня,
А дочь моя не родилась,
И нету сына у меня.
И голос нежности моей
Жужжит томительно и зло,
Как шмель в оконное стекло
В июльской духоте ночей.
И в темноте проснувшись, вдруг -
Всей грудью чувствовать - вот тут -
Затылка невесомый пух
И детских пальцев теплоту...
А утром - настежь! - окна в сад!
И слушать в гомоне ветвей
Не выдуманных мной детей
Всамделишные голоса.
1940 год.
Поэзия.
Из цикла "Стихи о завтрашних стихах".
Пусть я стою, как прачка над лоханью,
В пару, в поту до первых петухов.
Я слышу близкое и страстное дыханье
Ещё ненапечатанных стихов.
Поэзия - везде.Она торчит углами
В цехах, в блокнотах, на клочках газет -
Немеркнущее сдержанное пламя,
Готовое рвануться и зажечь,
Как молния, разящая до грома.
Я верю силе трудовой руки,
Что запретит декретом Совнаркома
Писать о родине бездарные стихи.
1940 год.
Твоя дочь.
Ты её назовёшь - Л е о ч е .
Она влезет к тебе на колени,
Тронет пальцем мягкие искры
На твоём подбородке и скажет:
"Ты небритенький, папа Валя".
Её волосы цвета печёных каштанов,
Точно взвитые светлым ветром,
Будут пахнуть травой и солнцем,
А глаза в пушистых ресницах
От отца унаследуют ясность
И суровую нежность к людям.
Ты ей будешь рассказывать сказки
О кудрявом розовом море,
О блуждающих аргонавтах,
О затерянной Терре Фонтане...
Она вырастет тонкой и смуглой,
Молчаливой и непослушной,
Она будет лазать по крышам,
Рвать подол и царапать колени,
И глядеть на далёкие звёзды,
На высокую синию Вегу,
И выдумывать новую рифму.
Она в шкаф твой полезет без спроса
И найдёт пачку старых писем,
Дневники в потёртых тетрадях
И стихи в домашних изданьях.
Она будет читать их жадно,
Перечитывать каждую строчку.
Будет грезить, любить и плакать,
И смеяться вместе со мною.
Я её никогда не увижу,
Никогда не возьму на колени,
И щеки моей не коснутся
Её волосы цвета печённых каштанов,
Точно взвитые светлым ветром,
И глаза в лучистых ресницах,
От отца перенявшие ясность
И суровую нежность к людям -
Никогда на меня не глянут.
Но она прочтёт моё сердце,
И она меня не осудит,
И от всяческих "антиулыбок"
Защитит меня и согреет
Непокорная твоя дочка,
Мой далёкий верный читатель -
Голубая твоя Л е о ч е .
1941 год.
Возвращение.
"Жди меня и я вернусь,
Только очень жди..."
К. Симонов.
Это будет, я знаю...
Нескоро, быть может, -
Ты войдешь бородатый,
сутулый,
иной.
Твои добрые губы станут суше и строже,
Опалённые
временем
и войной.
Но улыбка останется.
Так иль иначе,
Я пойму - это ты.
Не в стихах, не во сне.
Я рванусь,
подбегу.
И наверно, заплачу,
Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель...
Ты поднимешь мне голову.
Скажешь:
"Здравствуй..."
Непривычной рукой по щеке проведёшь.
Я ослепну от слёз,
от ресниц
и от счастья.
Это будет нескоро.
Но ты - придёшь.
1941 год.
Я живу.
Я живу без тебя.
В неуютной квартире.
Среди шумных соседей и облупленных стен.
Я одна в этом плохо проветренном мире.
Это быт. Это дом. А похоже на плен.
Я взбираюсь под утро на подоконник,
Прижимаюсь к стеклу и царапаю мел.
Я старею - от слёз, от свирепых бессонниц,
От неконченных писем, стихов и новелл.
Это трудно.
Но всё это только снится.
Мир совсем не такой, если снять мишуру,
Если вспомнить пронзённые солнцем ресницы.
Ты со мной. Ты во мне. Я с тобой говорю.
Ты меня не ругаешь за отсутствие пудры,
За немодные платья, за мечты о тебе...
Ты меня понимаешь, спокойный и мудрый
(Не такой, как в Полтаве, а как был на Лабе).
Улыбаются умные, добрые губы,
Светло-русая прядь закрывает висок.
Я тебе называю:"Аэро, любый..."
Ты меня - полушёпотом:"Еленок..."
И становится мир и просторным и светлым.
Ты мне волосы гладишь
Не во сне. Наяву.
Мы стоим над обрывом. От холодного ветра
Ты меня защищаешь.
Потому я живу.
1942 год.
Войдите или